А. ГИНЕВСКИЙ
В Ленинграде, на Кировской площади, стоит особняк, принадлежавший когда-то балерине Кшесинской. Отсюда, с узенького балкончика, выходящего на площадь, в 1917 г. обращался с пламенной речью к петроградскому пролетариату Владимир Ильич. В этом доме ныне устроен замечательный музей памяти одного из самых выдающихся соратников Ленина и Сталина — Сергея Мироновича Кирова.
Четырнадцать залов музея наглядно знакомят посетителей с жизнью Сергея Мироновича. Обходя эти комнаты, посетитель словно совершает историческую экскурсию во времени и пространстве — от Уржума, где протекало детство Сергея Кострикова, до его последних дней в Ленинграде, где великая жизнь была прервана злодейской рукой классового врага.
Маленький захолустный городок Уржум. Заброшенный среди болот и лесов, отдалённый от железной дороги, он был в царское время местом ссылки революционеров. На многочисленных фотографиях и пейзажных зарисовках, выставленных в музее, видна унылая панорама заштатного приуральского городишка. Здесь среди убогих лачуг находился и тот «Дом призрения малолетних сирот», куда был помещён ребёнком Серёжа Костриков. В четырёхлетнем возрасте он потерял отца, а через три года — мать. Бабка добилась помещения сироты в приют. В приюте детей плохо кормили, скупо одевали и заставляли подолгу твердить молитвы. Наконец Серёжу отдали в церковно-приходскую школу. Оттуда он попал в городское училище. На одном из снимков, выставленных в музее, можно увидеть унылое, казарменное здание с узкими окнами. Это и есть городское училище.
Здесь Серёжа Костриков учился до пятнадцати лет. Мальчик проявлял большие способности и жажду знания. Уржумское благотворительное общество отправило его как одного из лучших учеников в Казань, в механико-техническое училище. Он приехал в этот новый и незнакомый для него город с письмом от одного уржумского мецената. В письме было сказано:
«Одевать Сергея Кострикова по установленной форме, снабжать всеми учебными пособиями и своевременно вносить установленную плату за правоучение, а также предоставить ему необходимые для учебных занятий удобства». Но это сопроводительное письмо не облегчило судьбу Серёжи. Казанская дама-благотворительница, приютив мальчика в своём доме, поместила его в тёмном коридоре, на сундуке.
Занимался и чертил он по ночам на кухне, когда прислуга заканчивала свою дневную работу.
Серёжа Костриков был жизнерадостным, энергичным и очень наблюдательным юношей. Он отличался твёрдостью, упорством и каким-то особенно тёплым отношением к товарищам. В училище было много произвола, грубости, хамства. Сергей открыто и смело одёргивал самодуров, посягавших на достоинство его товарищей. Он делал это с огромной, необычайной для его лет выдержкой и решительностью.
*
В годы, когда Киров учился в Казани, там нарастал революционный подъем, в особенности среди студенчества. Ученики Казанского технического училища не захотели стоять в стороне от этого движения. После нескольких протестов против преподавания ненавистного всем «закона божьего» состоялась сходка учеников, а затем уличная демонстрация. Инициаторами этого выступления учащихся были Костриков и его друзья. Его посадили в карцер, грозили выгнать из училища. Тогда учащиеся почти все единодушно заявили протест начальству, а потом с пением студенческих песен вышли на улицу. Они остановились перед квартирой директора училища и демонстративно пропели ему «вечную память». Возмущение учащихся было так велико, что администрация была вынуждена оставить Кострикова в училище.
Сохранились письма, написанные Серёжей в то время. В Казани был большой завод Крестовникова, снабжавший всю Россию мылом и свечами. Приглядываясь к быту рабочих и нравам заводчиков, Серёжа писал своей крестной: «Да, наступает праздник... Но не для всех: например, здесь есть завод Крестовникова (знаете, есть свечи Крестовникова). Здесь рабочие работают день и ночь круглый год без всяких праздников. А спросите вы их: «Зачем вы и в праздники работаете?» Они вам ответят: «Если мы не поработаем хотя один день, то у нас стеарин и сало застынут, и нужно снова будет разогревать, на что понадобится рублей пятьдесят, и семьдесят, и сто». Но скажите: что стоит фабриканту или заводчику лишиться ста рублей? Ведь ровно ничего не стоит. Да, как это подумаешь, так и скажешь: зачем это один блаженствует, ни черта не делает, а другой никакого отдыха не знает и живёт в страшной нужде. Почему это, как вы думаете?»
*
В 1904 г., окончив Казанское механико-техническое училище, Сергей Миронович уезжает в Томск. Он работает в городской управе чертёжником, готовится к поступлению в Технологический институт. В Томске он входит в большевистский кружок, потом в подкомитет РСДРП. Молодой революционер знакомится с замечательной книгой Ленина «Что делать?», с трудами Маркса.
Вот макет маленькой подпольной типографии: наборная касса, небольшой печатный станок, две лампы, две табуретки, печурка. Этой типографией заведовал Сергей Миронович. С большого портрета смотрит на нас невысокого роста плотный человек, с едва пробивающимися усиками и отброшенными назад волосами. На нем поношенная тужурка, из-под которой выглядывает чёрная косоворотка. У юноши пытливый, внимательный взгляд. Это фотография Сергея Мироновича того времени,
*
Приближается 1905 год. Киров, член томской организации социал-демократической партии, ведёт подготовку к традиционному студенческому празднику — «Татьяниному дню». Дело в том, что 12 января, в «Татьянин день», томские либералы решили устроить политический банкет. Они собирались демонстрировать на нем свои «оппозиционные» взгляды, не идущие, впрочем, дальше «благонамеренной» критики кое-каких затей царского правительства. Сергею Мироновичу партия поручает «захватить» банкет.
Киров проникает на собрание с группой членов партии и превращает либеральный банкет в активный революционный митинг. Здесь распространяются революционные прокламации с призывом к демонстрации.
Эта демонстрация состоялась 18 января. На демонстрантов напали городовые и казаки. Рядом со знаменосцем Иосифом Кононовым, охраняя знамя и друга, стоял Киров. Полиция и войска открыли огонь. Демонстранты ответили револьверным залпом. Этот отпор вызвал замешательство в рядах городовых и казаков. Однако, оправившись, они возобновили обстрел демонстрантов. Несколько человек были тяжело ранены, в том числе Иосиф Кононов. Демонстрацию разогнали.
Сергей Миронович, в рассечённом шашкой пальто, едва спасся от озверевших казаков.
Началось следствие. 2 февраля товарищ Киров подвергается первому аресту. Он пробыл в тюрьме около двух месяцев. Но улик у властей не было, как ни старались они поймать в ловушку молодого революционера. Пришлось Кирова выпустить. Выйдя из тюрьмы, Сергей Миронович возвращается к прежней деятельности. Он работает в подпольной типографии, организует кружки, выступает на митингах, собирает отряды дружинников из железнодорожных рабочих, организует забастовку на станции Тайга.
*
В январе 1906 г. Кирова снова арестовывают. Это было перед самым отъездом в Москву, куда организация послала его за типографскими машинами для развёртывания нелегальной деятельности. По просьбе Томского комитета, один из либеральных адвокатов вносит за Кирова денежный залог, и через несколько месяцев его выпускают на свободу.
Но Киров неугомонен. Под домом на Аполлинариевской улице был разрыт подвал, куда попасть можно было, только отодвинув маскировку — ящик с землёй, передвигающийся на роликах. В этом подвале была оборудована большая типография. Неожиданно в «подозрительный» дом нагрянули жандармы. Кирова вместе с другими арестовали. Но типография была так замаскирована, что жандармы никаких доказательств «преступной деятельности» не обнаружили.
Товарищей Сергея Мироновича вскоре освободили. Его же самого привлекли к суду по старому «делу».
Молодого революционера заточают в крепость.
Вот перед глазами посетителей музея тёмная одиночка томской тюрьмы. Секретный корпус, куда поместили Сергея Мироновича, был особенно мрачен.
По ночам в камеры доносились прощальные крики смертников, которых вели на казнь.
Выйдя из тюрьмы, Киров в 1908 г. тайно переехал во Владикавказ. Годы чёрной реакции. Киров, сотрудник местной газеты «Терек», связывается с рабочими типографии и железнодорожных мастерских, занят пропагандистской работой. Много времени он отдаёт книгам, загородным прогулкам, путешествию в горы, беседам с горцами в аулах.
В ущельях около Эльбруса Сергей Миронович связывается с кабардинскими «бунтовщиками».
После двухлетних поисков, в августе. 1911 г., жандармы нападают на след Кирова. Его разыскивали по делу томской типографии, которая была раскрыта наконец полицией. Два месяца арестованный Киров странствует по этапам, по пересыльным пунктам и в холодные ноябрьские дни прибывает в Томск, в хорошо знакомое ему «исправительное арестантское отделение № 1».
*
Через четыре месяца начинается суд. Но тут происходит неожиданная путаница. Главный свидетель обвинения не узнает Кирова. Перед этим свидетелем, полицейским приставом, который арестовал в 1906 г. в доме на Аполлинариевской улице группу небритых и нечёсаных рабочих, теперь стоит прилично одетый, спокойный и солидный мужчина. Этот человек, по мнению пристава, никак не похож ни на одного из «бродяг» с Аполлинариевской, и «за отсутствием улик» Сергея Мироновича снова оправдывают.
Киров возвращается на юг, к партийной работе в подпольных кружках, к революционной пропаганде среди ингушей, осетин, кабардинцев. Он деятельно готовит партийную организацию Владикавказа к революции. В дни Февральской буржуазно-демократической революции 1917 г. Киров выступает как руководитель владикавказских большевиков против соглашательства меньшевиков и эсеров. Там же, на Северном Кавказе, товарищ Киров по специальному заданию партии ведёт активную подготовку к Октябрьскому вооружённому восстанию. В Терской области в чрезвычайно сложной обстановке, требующей исключительно выдержанной тактики, Киров вместе с терскими большевиками добивается объединения осетин, балкарцев, кабардинцев, ингушей и чеченцев и руководит вооружённым восстанием.
*
В начале 1919 г. Сергей Миронович становится душой героической обороны Астрахани. Об этом легендарном времени сохранилось много рассказов. В музее выставлены боевые приказы председателя Астраханского ревкома — Кирова, полные отваги и неукротимой воли.
Вот два эпизода того времени, рассказанные людьми, знавшими Кирова по астраханским операциям.
...Это были дни октября 1919 г. Последняя команда ушла на фронт, чтобы отстаивать подступы к городу. В Астрахани остались Реввоенсовет, маленький штаб и случайный пристанской люд. Обступив город со всех концов, белые не овладели только тоненькой железнодорожной ниткой, ведущей на Саратов. На городской площади собрались разноязычные и весьма пёстрые люди. Они свистели и кричали «долой!» каждому, кто поднимался на трибуну. В этой толпе были и подлинно трудовые люди, но они молчали.
Толпа все ещё шумела, когда на дощатые подмостки взошёл невысокий, но кряжистый человек, в белой рубашке с галстуком и в пиджаке.
Тихим голосом он произнёс легко и как бы вскользь:
— Товарищи...
И люди увидели убедительный взмах руки, вытянутой по направлению к ним. Затем уже громче и чеканной оратор повторил:
— Товарищи...
В людях ещё дышала неприязнь. Но убедительная чистота и спокойствие голоса Кирова утихомирили их. Тогда он сказал в третий раз:
— Товарищи...
Стало ещё тише. Перед Кировым стояли изголодавшиеся, исхудавшие, оборванные люди. Он взмахнул рукой:
— Чего вы ждёте, бунтуя? Может быть, вы в князья метите? Подумайте о том, что сделает с вами белогвардейская свора, которая придёт сюда завтра. Она безжалостно расправится с вами. Вот тебя, — Киров обращается к стоящему впереди бедно одетому человеку, — тебя повесят на первом столбе. А тебя, — обращается он к другому, — тебя повесят рядом с ним. Стоит ли бороться за нашу власть? Ну, как вы думаете?
Все притихли и слушали со вниманием. Как передать волнующую простоту кировской речи? Он говорил о живых и банальных вещах, доступных пониманию масс. Киров рассказал людям про их тяжёлое сегодня и очень ясно показал, что ждёт их завтра. Киров горячо призывал к защите советской власти. И эти разношёрстные, разноплемённые, тёмные люди поверили ему. Кто-то в углу затянул «Интернационал», его подхватили все собравшиеся на площади.
...Когда изменник Троцкий послал из штаба главнокомандующего предательскую директиву — эвакуировать Астрахань, Киров и Реввоенсовет, протестуя, обратились непосредственно к Владимиру Ильичу Ленину. Ленин ответил, что Астрахань нужно защитить до конца. И Киров выполнил этот приказ Владимира Ильича.
В трудные минуты Сергей Миронович появлялся на самых опасных участках и своим мужеством вдохновлял борцов. С удивительным бесстрашием, рискуя часто жизнью, объезжал он позиции.
Когда штаб Одиннадцатой армии был перенесён в маленький городок Святой Крест, Киров оставался ещё некоторое время в Астрахани. Он заботился там о материальном обеспечении войск. Лишь через два дня он покинул город, вылетев на самолёте. В штабе за полчаса до его прилёта была получена депеша: «Вылетел, встречайте».
Один из работников штаба немедленно сел в машину и помчался на розыски посадочной площадки для самолёта. Едва встречающие успели выбрать подходящую площадку и развести костры, как в воздухе уже показался самолёт. Перпендикулярно к направлению посадки шла дорога с телеграфной линией. Лётчик, не заметив столбов, сделал разворот для спуска и пошёл прямо на провода.
Люди на земле махали шапками и кричали. Но ветер относил слова, а шум мотора заглушал их. Неужели катастрофа? И впрямь — самолёт врезался в провода и тяжело грохнулся на землю.
И вот люди видят, как человек, одетый во все кожаное, выбирается из полуразрушенного фюзеляжа. Он спокойно идёт навстречу. Затем он срывает шлем. Незабываемая улыбка! Киров! Жив!
Крепкое рукопожатие. Он говорит спокойно:
— Ну, расскажите, что на фронте?
И ни звука о себе, ни слова об аварии.
...Посетитель музея видит эти самолёты — «ньюпоры», «сопвичи», на которых отважные красные лётчики, по инициативе Кирова, вступали в воздушный бой с великолепно оснащённым противником. Снимки этих самолётов, боевое оружие Кирова, его легендарная кожаная тужурка — все это глядит на посетителей со стендов, напоминая о героическом прошлом.
А вот кировское письма к бакинским большевикам. Связи с Баку, находившимся тогда во власти англичан-интервентов и контрреволюционных мусаватистов, были особенно важны для обороны Астрахани. Опираясь на героическую работу бакинских пролетариев и каспийских моряков, Киров организовал переправу контрабандой на рыбачьих лодках больших партий бензина и смазочных масел, так необходимых для военного транспорта и особенно для авиации. «От вас прибыло всего пять лодок с бензином, — читаем в одном кировском письме. — в общем около 2500 пудов».
Киров заботился о пропаганде в Баку, Закавказье, на Северном Кавказе. Он снаряжает туда надёжных товарищей с оружием, с письмами, с деньгами, с коммунистической литературой. Оттуда шла информация, которую он пересылал в ЦК партии, Владимиру Ильичу Ленину.
Большое художественное полотно красочно запечатлело обаятельный облик Сергея Мироновича среди большевиков-агитаторов, отправляющихся на подпольную работу в Закавказье. Широкополые шляпы, мохнатые бурки, смуглые лица на живописном фоне предгорья; выразительное лицо Кирова, озарённое его чудесной улыбкой. Киров провожает своих товарищей ласковым напутствием...
Отстояв Астрахань, товарищ Киров во главе Одиннадцатой армии участвует в победоносном осуществлении сталинского плана разгрома Деникина. Вместе с Серго Орджоникидзе Сергей Миронович прибывает на Северный Кавказ, освобождает трудящихся Азербайджана от ига интервентов и мусаватистов.
*
Киров — дипломат. Ленин направил его полномочным представителем РСФСР в меньшевистскую Грузию. В Кировском музее висит дипломатический костюм Сергея Мироновича — строгий синий шевиотовый пиджак, брюки. Рядом собраны его сообщения в Наркоминдел, а также ноты меньшевистскому правительству Грузии.
В одном из писем Сергей Миронович сообщает, что в Тбилиси меньшевики смотрят на него не иначе, как на председателя будущего грузинского ревкома. В письмах Ленину и Сталину Киров рассказывает, как встречали его в Тбилиси. Сперва выставили почётный караул, а потом окружили шпионами, прослеживая каждый его шаг,
В сентябре 1920 г. Сергей Миронович назначается в состав советской делегации, едущей в Ригу для заключения мира с Польшей.
После подписания договора с Польшей Киров расстаётся с дипломатической деятельностью и возвращается на Северный Кавказ. Здесь вместе с Серго Орджоникидзе, по указаниям, а иногда и при непосредственном участии товарища Сталина, Киров ведёт очень сложную работу по созданию и укреплению советской власти.
Сергей Миронович избирается секретарём ЦК коммунистической партии Азербайджана. Бакинские пролетарии сохранили благодарную память о Кирове, которому они обязаны возрождением нефтяной промышленности. Под руководством Кирова были возвращены к жизни ценнейшие нефтяные промысла и пущены новые. Страна получила драгоценное «чёрное золото», которое так необходимо было её растущим фабрикам и заводам.
*
Замечательным этапом в жизни Кирова были ленинградские годы. Мы видим Сергея Мироновича Кирова политическим деятелем огромного масштаба. Верный соратник товарища Сталина, он блестяще применяет сталинский стиль работы и большевистского руководства в борьбе с троцкистским охвостьем, возглавляя перестройку ленинградской промышленности.
 |
| И. В. Сталин и С. М. Киров. (Ленинград, 1928 г.) |
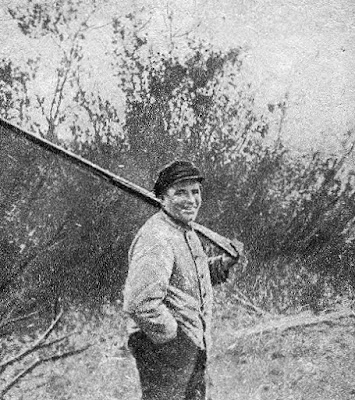 |
| С. М. Киров на отдыхе. |
Чтобы получить представление о всём многообразии деятельности этого замечательного большевика-сталинца, надо посетить кировский кабинет в Смольном. Он расположен по соседству с комнатой Владимира Ильича Ленина.
Кабинет Кирова строг и прост. Небольшой письменный стол, над столом портреты Ленина и Сталина. Сбоку — картина Бродского «Расстрел бакинских комиссаров».
На стенных часах — 4 ч. 30 м. дня: в это время Сергей Миронович вышел из кабинета и был злодейски убит вражеской пулей.
В кабинете посетитель видит груду самых необыкновенных вещей. Рядом с зачиненными карандашами, коробкой спичек и чугунным барельефом хранится коллекция продуктов, полученных из торфа, лежат образцы минералов из Хибин, склянки с цинковыми и свинцовыми концентратами, куски железа — первой опытной плавки из карельской руды. По соседству расположились куски рудничного рельса с «Красного путиловца», спирт из опилок, челнок из пластических масс, продукты лакокрасочной промышленности, синтетический каучук, альбомы с образцами тканей и многое другое.
Кировский кабинет в Смольном был командирским постом и центром, куда сходились все нити гигантского строительства Ленинграда и Ленинградской области. Ленинградцы с гордостью рассказывают о том, что буквально не было такой отрасли хозяйства, куда бы не проник глаз Кирова. И в этом убеждаешься, рассматривая коллекцию минералов, химических продуктов, тканей в кировском кабинете.
 |
| С. М. Киров в колхозе. (С картины художника В. А. Малышева.) |
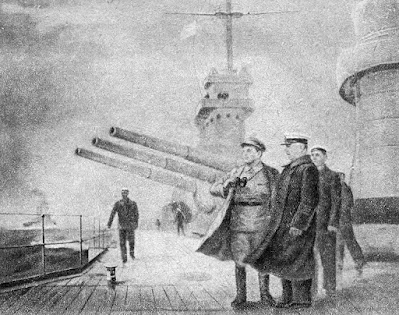 |
| К. Е. Ворошилов и С. М. Киров на маневрах Балтийского флота. (С картины художника В. А. Николаева.) |
 |
| С. М. Киров с физкультурниками. (С картины художника Н. И. Дермидонтова.) |
Крупное машиностроение, электростанции, сланцевая промышленность, тихвинские бокситы, апатитовая руда в мёрзлой тундре за Полярным кругом, освоение Севера, Мурманские рыбные промыслы — разве перечтёшь все, чем жил, о чём заботился Сергей Миронович?!
*
В анкетном листе делегата X Всероссийского Съезда Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов стоял вопрос: профессия?
На этот вопрос Сергей Миронович, заполняя анкету, ответил выразительно: «Революция».
Этот ответ раскрывает весь смысл кировской жизни, отданной целиком служению социалистической революции.








Комментариев нет:
Отправить комментарий